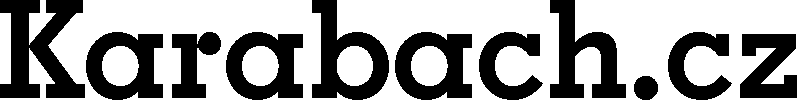Данный рассказ — часть готовящейся к публикации в Чехии антологии азербайджанской литературы
Эльчин
САРЫ ГЯЛИН1
Перевод на русский – Натига Расул-заде
… потом полил сильный дождь, ливень и мгновенно очистил от песка и пыли утесы этой горы, ярко-зеленые лужайки и такие же ярко-зеленые кроны, там и сям растущих на этих лужайках деревьев, листья кустарников, овраги с крутыми скалистыми краями, внизу которых бело пенно кипя бежала река, все очистил, обновил ливень, все заставил сверкать и светиться чистотой благодатный дождь, и в это мгновение и горы, и зелень, и крутые скалы, тянущиеся вдоль оврагов – все напоминало, все говорило о широте и бесконечности мира, этого без начала и без конца, вечного мира…
…потом всю эту широту и бесконечность объяли удивительные звуки, и под эти звуки словно заговорила река, катившая свои белопенные воды, заговорили горы и ярко-зеленые лужайки.
– Не заплетают концы волос.
Не отдадут тебя за меня.
Что бы – мне дожить до дня,
Когда увижу лик моей возлюбленной…
Что мне делать, горе мне, горе.
Что мне делать, горе мне, горы!
Златовласая невеста…
… потом прекратился проливной дождь, наступил вечер и все вокруг покрыла тьма, но те звуки и та песня будут звучать вновь и вновь, неотделимые от этих мест.
Глубоко ущелье это…
Верни, чабан, ягненка…
Что бы – мне дожить до дня,
Когда увижу лик моей возлюбленной.
Что мне делать, горе мне, горе.
Что мне делать, горе мне, горы!
Златовласая невеста…
Во внешнем виде шашлычной «Осенний дождь» не было ничего привлекательного, кроме вывески с названием. Во времена Советского Союза во дворе восьмиэтажного жилого дома в третьем микрорайоне Баку располагалась маленькая авторемонтная мастерская, принадлежавшая какому-то учреждению, но как только Союз развалился, эта мастерская моментально была приватизирована и переоборудована в шашлычную.
Правда, как утверждают, шашлыки тут готовили отменные, но жильцы восьмиэтажки были очень недовольны тем, что постоянно у них во дворе царили запахи дыма и шашлыка, кроме того, подвыпившие посетители шашлычной поднимали порой шум-гам, и это тоже не вызывало особой радости у жильцов.
И единственный положительный момент заключался в том, что по вечерам из «Осеннего дождя» слышались звуки кларнета, и тут же все затихало кругом, звуки кларнета рождали в душах жильцов такие удивительные чувства, что они на время забывали обо всех неудобствах: и о постоянном дыме во дворе их дома, и о раздражающе-аппетитных запахах шашлыка, и о криках и ругани невоспитанных завсегдатаев шашлычной…
В тот прекрасный осенний день кларнетист Фатулла, как обычно, проснулся спозаранку, поднялся с постели и направился умываться, когда жена его, Фируза, будто только и ждала его пробуждения, просунув голову в дверь, окликнула его:
Ты встал, Фатулла?.. Я что сказать хотела… Ладно, поди умойся, потом…
И таким голосом она произнесла это, что сердце Фатуллы защемило, заныло в недобром предчувствии, как самая тонкая, предназначенная для печальных звуков, струна тара, но в то же время весьма ощутимая тревога впилась в сердце его: в тоне Фирузы слышались до того униженные и беспомощные нотки, что такой основательный мужичище, как Фатулла, умываясь, еле сдержал подступавший к горлу ком, и смачно выругался про себя в адрес всех печалей, горестей и неустроенностей этого мира, потому что в последнее время – он и сам не понимал причины! – он часто вспоминал жену молодой, те времена, когда и в помине не было у нее седых волос, ставших сейчас красными от наложенной хны, а были две иссиня-черные косы, каждая толщиной с запястья, достававшие чуть не до пят, и была она будто стройный детеныш джейрана, затмевала солнце, затмевала луну своей красотой, солнцу говорила: не выходи, я взойду, луне говорила: не выходи, я взойду, и все молодые парни их квартала глаз не сводили с этой длиннокосой красавицы, а красавица эта среди стольких молодцов выбрала именно его, то есть, Фатуллу, который сейчас умывался с ноющим от нехорошего предчувствия сердцем.
Выбрала Фатуллу… Но разве для того она его выбирала, чтобы через тридцать шесть лет девушка, затмевавшая своей красотой солнце и луну, сейчас говорила бы таким униженным и беспомощным тоном, разве для того выбирала, чтобы в одном и том же платье ходить на пять свадеб, что подряд в одну весну были сыграны в их квартале, разве для того выбирала, чтобы?..
и Фатулла еле сдержался, чтобы не швырнуть мыло, что бессмысленно вертел в руках, в свое отражение в зеркале…
ладно…
хватит…
есть и похуже тебя живут…
и Фатулла в те годы был молод и дерзок, имел густую черную шевелюру, с гордой осанкой сидел он под парной шелковицей напротив дворовых ворот, под быстрыми взглядами проходивших мимо соседских девушек, под девичьими взглядами, украдкой бросаемыми на него из окон, играл в нарды и побеждал всех молодых соседских парней, и то, что чернокосая красавица среди стольких молодцов выбрала именно его, было вовсе не удивительно, а напротив – так же естественно как и то, что в жаркий летний день мужчины их квартала собирались в прохладной тени этой ветвистой парной шелковицы, Фатулла и внешностью и поведением своим был вполне достоин этой длиннокосой красавицы, но именно тогда шапочник Джафар, отец длиннокосой красавицы, уперся как баран: я, мол, не отдам дочь за зурначи.
Дело в том, что в роду Фатуллы все были музыканты, и прадед его, и дед, и отец были известными в Баку исполнителями на балабане, и Фатулла тоже с самого детства играл на балабане, и балабан для него был, как воздух, как вода, Фатулла не мог представить себя в этой распрекрасной жизни без балабана, но когда шапочник Джафар уперся как баран, не желая отдавать за него дочь, Фатулла ради длиннокосой красавицы отрекся от балабана, который считал смыслом всей своей жизни, и перешел на кларнет.
Видимо, шапочник Джафар считал кларнет более достойным уважения инструментом, чем балабан и потому дал согласие на свадьбу.
С тех пор прошло тридцать шесть лет.
Все эти тридцать шесть лет кларнет Фатуллы усердно трудился, справил немало торжеств и свадеб, кормил большую семью: их самих и пятерых их дочерей, благодаря этому кларнету, они вырастили детей, дали им образование, выдали их замуж.
В советское время не было столько музыкантов, но как только распался Союз, тут же как из-под земли возникло столько певцов и исполнителей, что просто диву даешься – где же они раньше были? – независимость будто была тяжела ими и разродилась вконец таким невероятным их количеством.
И все они, видимо, в первую очередь, были хорошими монтерами, а уж потом музыкантами, в том смысле, что все музыкальные инструменты подключали к электричеству и такой поднимали хай, такое при этом отплясывали, такое на себя напяливали, что наконец, вытеснили кларнет Фатуллы в эту маленькую шашлычную, и кларнет, что некогда приносил хороший заработок, теперь сиротливо рыдал для нескольких подвыпивших посетителей, в надежде выплакать на хлеб насущный.
И Фатулла, смывая мыло с лица, не поднимал глаз на зеркало, он не хотел видеть этого седого, с побелевшими как снег усами, толстого мужчину, но именно в эту минуту зеркало будто превратилось в магнит, а глаза Фатуллы словно стали железными, и зеркало притягивало глаза Фатуллы, притягивало…
посмотри на меня!..
посмотри на меня!..
Норвежец Мартиниус Асбъеренсен вот уже семь лет, как работал в Баку в одной из зарубежных нефтяных компаний на должности помошника главного бухгалтера, и хоть и очень любил Ибсена, но бакинских дельцов, спекулирующих антиквариатом знал гораздо лучше, чем героев Ибсена, и когда он рассматривал антикварные изделия и чуял предстоящую прибыль, он получал гораздо больше удовольствия, чем от музыки своего любимого композитора Грига.
Правда, сейчас и местные жители и маклеры уже были не те, что лет пять-шесть назад, умнее стали: а когда развалился Советский Союз и открылись границы, приезжавшие в Баку иностранцы буквально за гроши скупали антикварные изделия – старинные азербайджанские ковры, ювелирные украшения, чеканку, работы современных художников – увозили за границу и там продавали вдесятеро, а то и в сто раз дороже, или же за смехотворные деньги собирали себе богатые личные коллекции; так было лет пять-шесть назад, потом появились новые маклеры, маклеры новой формации, так сказать, цены выросли, но как бы цены ни росли, как бы местные жители ни поумнели, как бы ни пробудились, цены скупаемых азербайджанских и восточных антикварных изделий были все еще очень низки по сравнению с ценами на них в Европе и США.
Конечно, долго так продолжаться не могло, надо было использовать момент, ловить удачу. Верно и то, что если бы и дальше так шло, в Азербайджане ничего по-настоящему ценного не осталось бы, но это были проблемы будущего и пусть этими проблемами занимаются будущие поколения и сами азербайджанцы.
Ловкий, хитрый, деловой по природе Мартиниус Асбъёренсен держал руку на пульсе, для начала он собрал себе прекрасную личную коллекцию из азербайджанских ковров и ковровых изделий, потом понял, что нельзя сейчас довольствоваться только лишь личной коллекцией, надо поставить дело на широкую ногу, организовать настоящий бизнес, понял и рьяно принялся за работу, и в результате за те годы, что он пробыл в Баку, он хорошенько изучил тайные и явные, легальные и официальные пути этого бизнеса, и таким образом, заработал большие деньги.
Друзья и знакомые Мартиниуса Асбъёренсена в Норвегии (да и сам он) прежде и помыслить не могли, что когда-то Советский Союз рухнет и развал этого устрашающего монстра осчастливит Мартиниуса, и в неведомом до вчерашнего дня Азербайджане так сказочно повезет этому маленькому, лысому, пузатому человечку.
Когда Фируза внесла на подносе свежезаваренный чай, хлеб, масло, сыр и положила перед мужем на стол, Фатулла почувствовал, что на этот раз Фируза сообщит что-то неожиданное и спросил:
– Ты, вроде, что-то сказать хотела?
– Пей чай, потом скажу, – ответила она, и Фатулла окончательно уверился, что Фируза скажет что-то новое, но какое новое? хорошее? плохое? этого он не знал.
Фируза, было заметно, спешила сообщить новую весть, но в то же время, как бы, не решалась, и Фатулла подумал, что может эта весть об одной из дочерей? Но что там могло быть нового? Если новый внук, то нечего была тут осторожничать – шестого внука ждали – и ничего другого больше не приходило ему в голову.
И кончив завтракать, он спросил:
– Ы-ы?.. Что случилось?
– Ничего, – сказала Фируза. – Что может случиться, слава Аллаху, все нормально…
– Ты же говорила, что-то сказать хотела…
Фируза подошла к нему, взяла за запястье.
– Ну-ка, пошли, – и повела его к двери, выходящей во двор.
Вот уже тридцать шесть лет, как они женаты, но каждый раз за эти тридцать шесть лет, когда рука Фирузы прикасается к его руке, Фатулла чувствует, будто ток пропускают через его тело, будто… будто… рука эта была рукой длиннокосой красавицы, и он чувствовал тепло той руки, знакомые ощущения от той руки…
Перед дворовыми воротами Фатуллы рос старый с толстым стволом виноградник, и лет ему было больше, чем Фатулле, ветви виноградника были подняты на крышу одноэтажного дома Фатуллы и на крыше из тех ветвей был сделан отличнейший тенистый навес, и как только наступала весна, появлялись листья на ветвях виноградника, и очень скоро этот навес превращался в райский уголок для жителей квартала, и даже в самый жаркий летний день яркие лучи солнца не могли пробиться сквозь густую листву навеса, и самое удивительное заключалось в том, что листья старого виноградника каждый раз были так свежи, будто он обновлялся и расцветал не в семидесятый или восьмидесятый раз, а впервые, и словно новорожденный открывал глаза в этот мир, и столько он давал урожая, янтарно-желтого винограда – шаны, что Фирузе хватало, чтобы на всю зиму приготовить абгору, уксус, дошаб, да еще ведрами отправлять сладкий, как мед шаны всем своим дочерям, а листья виноградника засаливала, и осенью и зимой из тех листьев готовила долму, да такую, что Фатулла был уверен – никто в мире не мог бы приготовить вкуснее.
Фируза, потянув за собой Фатуллу, вывела его во двор, подвела к винограднику и показала на ярко-зеленые, уже выросшие в ладонь величиной, листья.
– Видишь, Фатулла? – спросила она.
Фатулла как-никак был человек творческий, тонко чувствующий, и, правду сказать, его по-настоящему взволновало, что в это прекрасное весеннее утро Фируза вывела его во двор и показывает ему на пробуждающуюся ярко-зеленую листву, будто улыбающуюся ему приветливо, и как в той далекой молодости ему вдруг захотелось тут же, посреди двора обнять Фирузу, прижать ее к груди, но тут он услышал ее голос.
– Знаешь, Фатулла, хочу тебе кое-что сказать… но только не сердись…
Сердце Фатуллы будто провалилось в пустоту, полетело в пропасть, и теперь Фатулла отчетливо, на все со процентов понял, что услышит что-то нехорошее.
– Фатулла, – сказала Фируза, – знаешь… что я надумала… хочу.. хочу собрать эти листья и продать их на базаре…
Поначалу Фатулле показалось, что он ослышался или неправильно понял слова жены, но через мгновение, когда в мозгу, как пощечина прозвенели ее слова, он вдруг так изменился в лице, что Фируза не на шутку перепугалась и побледнела, как полотно.
– Что? – прохрипел Фатулла.
– Не сердись, Фатулла, ради Аллаха не сердись! – торопливо проговорила Фируза.
– Чтобы моя жена продавала на базаре виноградные листья!? – таким же страшным, хрипящим голосом произнес Фатулла, и этот вопрос был обращен явно не к Фирузе, и даже не к самому себе, а будто он спрашивал кого-то невидимо присутствующего тут…
Может, он спрашивал судьбу?..
может, обращался к Аллаху?..
к кому он обращался?..
он и сам не знал, но одно он знал точно – лучше бы он умер, чем дожить до этого дня, когда через тридцать шесть лет он довел ту длиннокосую красавицу до такой нужды, что она… в тысячу раз было бы лучше, если б он умер.
Фируза, увидев сердито вытаращенные глаза Фатуллы, его багрово-покрасневшее лицо, испытала настоящий страх: в последнее время у мужа и без того сильно подскочило давление (порой доходило до 170 х 110) и Фируза стала от всего сердца просить и умолять его:
– Фатулла, да буду твоей жертвой, не обращай внимания на мои глупые слова… сказала – да… не подумала… Не принимай к сердцу, если сболтнула лишнее… Да буду твоей жертвой… Клянусь Аллахом, больше ни слова ни скажу такого…
И Фируза снова взяла его за запястье, и впервые за тридцать шесть лет Фатулла резко выдернул руку.
– Убери руки от меня!.. – сказал он.
Мисс Мерилин Джонсон уже исполнилось пятьдесят один год, но до сих пор еще она не вышла замуж, эта негритянка была чересчур уж толстая. В США часто встречались такие толстяки и, конечно же, причиной их непомерной толщины являлись искусственные компоненты в составе пищевых продуктов, коими они, толстяки питались.
Жратва представляла собой основную проблему в жизни Мерилин Джонсон и уже превратилась в основную цель, и в этом смысле мисс Мерилин Джонсон повезло с работой – она была очень довольна своим последним местом работы.
Мисс Мерилин Джонсон работала прислугой в доме мистера Исаака Блюменталя, солидного и известного банкира, квартира которого располагалась на двадцать третьем этаже здания, что напротив отеля «Регал Дж. Н. Плаза», что рядом со зданием ООН, что в Манхеттене, что в Нью-Йорке, и поскольку.
Постольку сам мистер Блюменталь и жена его миссис Блюменталь уделяли своему здоровью исключительное внимание и ели мало, все высококачественные натуральные продукты, доставляемые из дорогих магазинов, большей частью оставались бы нетронутыми, если б не завидный аппетит мисс М.Джонсон, и, прибираясь в квартире, мисс М.Дж. перемалывала с утра до вечера, будто мельничные жернова – зерно, своими мощными челюстями эти экологически чистые и потому дорогие продукты.
Чета Блюменталь была бездетной, неразговорчивой, спокойной, любила беззаботную, комфортную жизнь.
У миссис Блюменталъ имелся белоснежный пудель, и она с ним разговаривала больше, чем с мистером Блюменталем, или же с мисс Джонсон, часто выгуливала пуделя, сама чистила, мыла, холила, таскала к специальному парикмахеру, дабы постричь его по последней моде, расчесывала его густую шерсть и, естественно, сама кормила, и, таким, образом, у мисс Джонсон не было никаких проблем, связанных с этой собакой.
Наряду с тем, что мистер Блюменталь был известным и авторитетным в финансовых кругах банкиром, он был к тому же заядлым коллекционером старинных музыкальных инструментов и каждый вечер после легкого ужина до полуночи проводил среди экспонатов своей коллекции, в идеальном порядке расположенных в отведенных для них трех комнатах, усаживался в удобное кресло с одним из редких экспонатов в руках и внимательно, сантиметр за сантиметром изучал и обследовал инструмент через лупу, сверяясь при этом с различными каталогами и справочниками.
Мистер Блюменталь сам лично вытирал пыль с образцов своей коллекции, в том числе с одной скрипки Г. де Салло, с одной – А. и Н. Амати и с двух скрипок (!) Страдивари, и в этом отношении тоже у мисс Джонсон не болела голова, что вдруг она что-то там уронит, или что-то такое сломает, или повредит…
В чем Фируза-то провинилась? А? В чем она провинилась? Никакой ее вины не было… посмотри только до чего ты довел свою семью, свой дом, эту бедную Фирузу, что она задумала продавать виноградные листья, торговать на базаре виноградными листьями!
Твоему покойному отцу, когда он сажал во дворе этот виноградник, и в голову не могло придти, что когда-то, через много лет семья его сына будет так бедствовать и нуждаться, что его невестка задастся мыслью продавать на базаре листья с этого виноградника.
Как же тут не переворачиваться в гробу покойному шапочнику Джафару, что не желал выдавать свою длинноволосую красавицу-дочь за зурначи (и правильно делал, что не желал!), но выдал за кларнетиста (и неправильно сделал!), зная о бедственном положении родной дочери ?!
Глупец, сын глупца, вместо того, чтобы отталкивать руку Фирузы, поди лучше бейся головой о стену, Фируза тут при чем?..
… и сидя за столом, молча с треском ломая пальцы, Фатулла видел, как в комнату со двора вошла Фируза, и глаза Фирузы покраснели от слез, и он еле сдержался, чтобы не подойти и обнять ее, сказать ласково: «ты тут ни при чем, это я – язва проклятая!«, но сдержался, боясь, что может при Фирузе прослезиться, и потому, не отрывая глаз от своих рук, продолжая нервно ломать пальцы, решился только произнести:
Ну, что такое?..
И Фируза не посмотрела на него, убирая со стола остатки завтрака, а только дрожащим голосом сказала:
У мальчика скоро ведь маленькая свадьба…
… теперь ты понял, тупица, сын тупицы, понял или нет? Хочет подарок внуку сделать, а на какие шиши?.. что ей делать?.. Треснуть бы по тупой твоей башке твоим кларнетом!.. Что ты приносишь в дом? Что зарабатываешь? Все, что приносишь, тут же сам и проедаешь!..
Дело в том, что через пять дней, в ближайшее воскресенье пятилетнему внуку Фатуллы должны делать обрезание, и Фируза после долгих размышлений что купить и на что купить, в конце концов, остановилась на мысли в виде источника доходов использовать виноградник…
… понял теперь, глупец, сын глупца?! …
Конечно, Фатулла знал, что заработков в «Осеннем дожде» не хватает на все нужды семьи, но знать не знал, ведать не ведал, что дела обстоят настолько плохо, потому что все заработанные деньги он добросовестно и аккуратно вручал жене, а уж она вела дом, и все хозяйство было на ней, и Фируза выворачивалась, как умела, ни разу не пожаловавшись мужу, чтобы не расстраивать его, и без того ведь он делает все, что в его силах, в свои солидные лета играет на кларнете в шашлычной по заказу клиентов, которые почасту в сыновья ему годятся (и каких клиентов!
Одни пьяные, другие драчливы, как петухи, третьи – Аллах их ведает, что за подозрительные субъекты…), что же еще должен делать несчастный Фатулла?
Но если б даже мир перевернулся, Фатулла не мог бы согласиться на то, чтобы жена его ради подарка внуку на его маленькую свадьбу, задумала продавать виноградные листья на базаре.
И поднявшись из-за стола, Фатулла подошел к буфету, что Фируза убрала с особым старанием, и задумчиво воззрился на верхнюю полку, где за стеклом красовался старинный инкрустированный перламутром балабан.
Украшенный серебряной и перламутровой инкрустацией и бирюзой, этот балабан достался Фатулле от отца, от деда, прадеда… и в доме Фатуллы он по праву считался дорогой реликвией.
В свое время об этом балабане писали газеты, приходили даже из музея, чтобы приобрести его, но Фатулла продавать отказался, потому что был убежден, что если продаст, или отдаст кому-то, то перед памятью своих предков совершит недостойный мужчины поступок.
Временами Фатулле казалось, что с того дня, как он променял этот балабан на кларнет, балабан обиделся, и не только на Фатуллу, на весь белый свет обиделся.
Но раз или два в году Фатулла снимал балабан с верхней полки буфета, выходил с ним во двор, садился на аккуратно побеленный край маленького бассейна напротив виноградника и с упоением играл щемящую душу мелодию «Сары гялин».
И по мере того, как пальцы Фатуллы перебирали клапаны балабана, он чувствовал, как балабан, казалось бы, мирится с ним, и еще он чувствовал, что с того дня, как в последний раз балабан был водружен на свое почетное место на верхней полке буфета, он все это время терпеливо ждал своего маленького тихого праздника, что назывался «Сары гялин».
Сотрудники музея прочитали надпись, начертанную на балабане перламутровыми арабскими иероглифами, и Фатулла, попросив их переписать эту надпись на кирилице, положил бумажку с надписью, как обычно это делают в музеях, перед балабаном:
«Год – 923
Джамадиул – эввэл – 6
Тебриз
Мастер Мухаммед ибн Юсиф ибн Муталлиб»
Это были дата появления на свет инструмента и имя мастера, сотворившего в Тебризе сей балабан, дата давалась по мусульманскому календарю Хиджры, что по подсчетам музейных работников приравнивалось к году 1516 по христианскому летоисчислению, а еще точнее – 30 июня 1516 года.
В советское время музеи не испытывали недостатка в деньгах, и сотрудники музея долго уговаривали, обещали золотые горы, но так и не уговорили Фатуллу, он наотрез отказался продать балабан музею, разрешил, правда, сфотографировать инструмент и посылать эти фото, куда угодно, писать что угодно, но перламутровый балабан остался на своем прежнем месте в верхнем ярусе буфета за стеклом, и уважение к нему еще больше возросло.
Вниз по улице – отсчитайте четыре двери от дома Фатуллы, и вот вам будет дом семейства Алекпера. Алекпер был медником и прежде имел маленькую мастерскую на улице Басина, возле остановки трамвая номер 11, потом, когда улицу расширяли, снесли мастерскую, и Алекпер тогда был вынужден лудить медную посуду, чтобы прокормить семью, но как только рухнул Советской Союз, призошло странное событие: медные, гроша ломаного не стоившие кастрюли, подносы, самовары и прочая покрытая пылью посуда, сваленная в подвале дома Алекпера, внезапно фантастически подскочила в цене, и как мухи на мед стали слетаться в дом Алекпера сначала иностранцы, потом внезапно возникшие бакинские маклеры и предлагать Алекперу за эти бросовые вещи большие деньги, и когда Алекпер распродал всю медную утварь, что у него имелась, он сам сделался маклером, и медник Алекпер, буквально на глазах у окружающих обратившись в богача Алекпера, стал одним из самых видных и уважаемых людей в квартале, даже купил себе «мерседес», правда, не новый, 86 года выпуска, но как бы там ни было, «мерседес» – это «мерседес».
Как кошка, учуявшая мясо, маклер Алекпер трижды приходил к Фатулле и трижды заводил разговор о балабане с целью купить его, и каждый раз предлагал сумму несколько больше прежней, но Фатуллу сломить не удавалось, и в последний его приход Фатулла категорически сказал ему: «Алекпер, двери моего дома всегда открыты для тебя, но с этим предложением больше сюда не приходи!« И после этого разговора Алекпер, хорошо знавший характер Фатуллы, больше не заговаривал с ним о балабане.
Все, кто знал Фатуллу – соседи в квартале, друзья и знакомые, даже Фируза – думали, что кларнет для Фатуллы – все, смысл жизни, самый близкий, самый сердечный друг, с которым одним только Фатулла делится сердечными тайнами, и соседи, друзья и знакомые, и Фируза правильно полагали, и в самом деле было так, но так было нескольно поверхностно, так было то, что на виду, а в душе Фатуллы, очень глубоко проходила черта, и до той черты все было так, правильно было, но дальше той черты жили в душе Фатуллы другие, невыразимые чувства, и никто на свете, даже Фируза, не знал, что кларнет для Фатуллы – пустяк, ерунда (!), потому что дальше той черты, что залегла глубоко в душе Фатуллы, начинались голоса природы: шум моря, вой ветра, щебет птиц, шорох листвы…
В один прекрасный и удивительный день, под вечер, когда Фатулла сидел под парной шелковицей напротив своих ворот и, как обычно, готовился играть в нарды с соседями, он вдруг услышал тихий шорох листвы от легкого дуновения ветерка в ветвях шелковицы, шепот листвы, и этот шорох-шепот листьев будто впечатался ему в мозг, в память и там и остался, и как новорожденный открывает для себя мир начиная со вкусовых ощущений, Фатулла внезапно открыл, что его кларнет никогда не сможет передать этот непостижимый язык природы шорохи и шепоты, говор и плеск…
Что нашептывали листья той парной шелковицы – Фатулла никому не смог бы это объяснить, потому что и сам не знал, но понимал, что тайну, что заключалась в шелесте этих листьев, не мог бы передать ни один музыкальный инструмент в мире…
Кроме этого балабана и таящейся в нем песни «Сары гялин».
Однако, Фатулла понимал и то, что это являлось истиной для него одного, для Фатуллы, а, скажем, какой-нибудь пианист мог бы утверждать, что только пианино способно передать те звуки природы и таящуюся в них тайну, а, к примеру, скрипач мог бы поспорить, что только скрипка способна… как бы там ни было, после такого открытия Фатулла долго пребывал в удрученном состоянии, и ему показался бессмысленным не только его кларнет, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, но и сама жизнь показалась лишенной смысла, и в тот вечер Фатулла очень рассеянно играл в нарды, без настроения, без охоты и, надо ли говорить, что проиграл, но о своем открытии он никогда никому не говорил ни слова.
Если б, Фатулла, к примеру, был бы пианистом, тогда его дети неважно, мальчики или девочки – могли бы продолжить его путь в професии, но весь род Фатуллы, все музыканты в роду были не пианистам, и даже не кяманчистами – кем девушки тоже могли бы стать – а все в их роду были исполнителями на балабане, а девушкам – ясное дело – не пристало играть на балабане.
Может, это божья кара за то, что он бросил балабан, променял его на кларнет? Может, Аллах наказал его и не дал ему в наследники ни одного мальчика, чтобы тот мог продолжить дело своих отцов и дедов?
Даже если так, да будет все оно жертвой длиннокосой красавице, и пусть Аллах не послал им сына, ничего, но взамен пускай сделает долгой и безгорестной жизнь этой длиннокосой красавицы, чтобы ни бед, ни печалей не знала она.
– Да буду твоей жертвой, Фатулла, умру у ног твоих, ради Аллаха не продавай балабан, Фатулла, знаю, из-за меня продаешь, прости меня, глупость сказала, черт попутал, этот разговор о листьях – недостойный тебя разговор… прошу тебя, умоляю, не продавай балабан, каждый день тосковать по нему будешь, не продавай, Фатулла…
Но сколько ни просила, ни умоляла Фируза, сколько ни проливала слез не могла разубедить Фатуллу.
Все совершилось очень просто: Фатулла зазвал к себе Алекпера и продал ему перламутровый балабан за 1750 долларов США, а Алекпер в свою очередь продал тот балабан за 2250 долларов своему старому клиенту Мартиниусу Асбьёренсену (имя этого человека Алекпер никак не мог запомнить, и потому, записав на бумажке имя маленького, лысого, пузатого человека, всякий раз, когда говорил с ним, украдкой заглядывал в эту свою шпаргалку), а Мартиниус Асбьёрнсен продал инкрустированный балабан своему клиенту, жившему в Нью-Йорке за 7000 долларов, и таким образом, наконец, старинный перламутровый балабан очутился на столе мистера Блюменталя.
Мистер Блюменталь с первого взгляда влюбился в этот инкрустированный серебром и перламутром балабан, очень внимательно осмотрел его, проверил, из справочников узнал, что в средние века на Востоке мастер духовых музыкальных инструментов Мухаммед ибн Юсиф ибн Муталлиб был таким же несравненным, искусным и заменитым мастером, каким был Страдивари в Европе, и тщательно и досконально обследовав балабан, купил его, ни много, ни мало, за 66.500 долларов и поставил на почетное место в разделе восточных музыкальных инструментов своей коллекции.
В то время в Нью-Йорке начиналась осень…
Прошла осень, зима выдалась в Нью-Йорке холодная, но и она прошла, наступила весна, но небоскребам Нью-Йорка, воздвигнутым из бетона, стали и стекла были безразличны и осень, и сменившая ее холодная зима, и ранная весна.
В квартире мистера Блюменталя жизнь шла своим чередом, без изменений, прошла осень, прошла зима и теперь проходила весна… потом должно было настать лето, а после опять по порядку: осень, зима, весна… и жизнь все продолжалась бы так в небоскребе из бетона, стали и стекла, в квартире мистера Блюменталя, где ни на миллиметр ничего не менялось…
Миссис Блюменталь, как всегда выгуливала своего пуделя, купала его, возила стричь.
Мистер Блюменталь приходил с работы и после легкого ужина уединялся в комнатах своей коллекции, и в эти часы для него ничего на свете не существовало, кроме этой коллекции.
Мисс Джонсон по-прежнему беспрерывно жевала, возилась на кухне, и так как в огромной этой квартире она часто оставалась одна, то, продолжая жевать, она лениво слонялась по комнатам в поисках какого-нибудь дела, но все в квартире было на своих местах, все было аккуратно убрано и таким аккуратно убранным и оставалось, потому что здесь никто ничего не трогал, а если и трогал, то возвращал тронутое на его прежнее место, и таким образом, мисс Джонсон не могла найти себе дела, и если б не постоянная потребность без устали работать челюстями, жизнь для мисс Джонсон могла бы потерять всякий смысл.
И вот в один из дождливых весенних дней, в полдень в квартире мистера Блюменталя произошло невиданное еще на свете (во всяком случае, на этом свете), необычайное событие.
В тот дождливый весенний день мисс Джонсон, как обычно, была одна в квартире, и, как обычно, что-то жуя, ходила по квартире, прикидывая, что бы такое сделать, когда услышала странные звуки: это, несомненно, была музыка, но очень уж какая-то странная… непонятная, непостижимая… в то же время щемяще-печальная…
да… да… очень печальная мелодия, и доносилась она со стороны комнат, где размещалась коллекция мистера Блюменталя.
Поначалу мисс Джонсон подумала, что это телевизор, или радио, но вовремя вспомнила, что хозяин запретил ставить в комнате коллекции телевизор или радио, чтобы они не отвлекали его, не мешали сосредатачиваться, и мисс Джонсон со все возраставшим удивлением направилась в сторону комнат для коллекций.
Теперь стало совершенно ясно, что звуки шли из этих комнат. Мисс Джонсон отворила дверь, и в ту же минуту глаза этой и без того лупоглазой негритянки чуть не вылезли из орбит.
Некий музыкальный инструмент из коллекции мистера Блюменталя, похожий на флейту, повиснув в воздухе возле окна и словно по-человечески глядя в окно, глядя из окна на улицу, глядя на весенний дождь, исполнял…
непонятную, непостижимую…
полную печали…
очень грустную…
мелодию, и под ритм той мелодии этот духовой инструмент тихо шевелился и трепетал в воздухе, будто в пальцах невидимого музыканта.
Очередной прожеванный кусок, что мисс Джонсон собиралась проглотить, застрял у нее в горле, и в ужасе от увиденного, родившего черный страх в душе ее, бедная женщина почувствовала, как зашевелились на голове густые волосы.
Сердце так бешено колотилось в груди мисс Джонсон, будто вот-вот найдет себе лазейку и выскочит промеж огромных, похожих на туго набитые мешки с мукой, грудей.
А флейтообразный инструмент все так же висел возле окна и играл удивительную и непостижимую мелодию, и очень уж печальна была мелодия, до того печальна, что наполнила неведомой скорбью широкую грудь мисс Джонсон, и самое непонятное заключалось в том, что подобная печаль, подобная грусть, подобная скорбь до той минуты были совершенно чужды душе мисс Джонсон, находящейся в ее широкой груди.
И в тот дождливый весенний день мисс Джонсон, пребывая все еще в страхе, интуитивно ощутила, что эти скорбь, печаль и грусть превращаются для нее во что-то родное, близкое, понятное и плачут и рассказывают они о пустоте и никчемности ее жизни.
Мисс Джонсон, тем не менее, не могла оторвать свои вытаращенные глаза от флейтообразного инструмента, и в эту минуту сам музыкальный инструмент, казалось, превратился в сплошную печаль, грусть и скорбь…
И когда миссис Блюменталь со своим пуделем вернулись домой, мисс Мерилин Джонсон все еще пребывала под впечатлением пережитого потрясения, страшного события, свидетелем которого она стала, и торопливо, заикаясь от волнения, она рассказала о случившемся миссис Блюменталь.
Миссис Блюменталь внимательно выслушала мисс Джонсон, потом вместе с ней прошла в комнату коллекций, глянула на музыкальный инструмент, на который указывал дрожащий палец охваченной чуть ли не животным ужасом мисс Джонсон: этот восточный духовой инструмент лежал на своем обычном месте, и миссис Блюменталь больше ничего не спрашивая, внимательно посмотрела на мисс Джонсон.
Вечером вернулся с работы мистер Блюменталь и после легкого ужина только собирался, как обычно, пройти к своей коллекции, когда миссис Блюменталь задержала его и рассказала о случившемся с мисс Джонсон, и так как у мистера Блюменталя после напряженного дня на работе, заполненного банковскими операциями, не было никакой охоты выслушивать подобную фантастическую ахинею, то он, с разрешения жены, в тот же вечер рассчитал мисс Мерилин Джонсон.
Спускаясь на лифте с двадцать третьего этажа мисс Мерилин Джонсон вытирая заплаканные глаза, горестно размышляла, что, может, и вправду она сходит с ума, и то, что она видела и слышала днем, как флейтообразный музыкальный инструмент, повиснув возле окна, наигрывал ту непостижимую, потрясавщую душу, мелодию – это не явь, не правда, а какая-то галлюцинация?
А как же в таком случае та печаль? та грусть? та скорбь?…
Кроме пережитого страха и сильного огорчения из-за потерянной работы, еще одно чувство – чуть ли не животный ужас засел внутри мисс Джонсон: несчастная негритянка опасалась, что те печаль, грусть и скорбь так глубоко вошли, въелись в ее душу, что теперь навсегда, до конца жизни не покинут ее.
И, конечно же, мистеру и миссис Блюменталь и в голову не могло придти, что мисс Джонсон рассказала им чистую правду, а несчастной мисс Мерилин Джонсон и в голову не могло придти, что есть далекая страна Азербайджан, и в той далекой стране флейтообразный духовой инструмент называется «балабан», и мелодия, исполненная тем балабаном, грустная, печальная, непостижимая мелодия в той далекой стране называется «Сары гялин».
1 Сары гялин – букв. – златовласая невест. Старинная азербайджанская народная песня.